Новостная лента
- Инициатива | 30.06 03:21 (0)
- ФФ-сюр | 23.05 05:36 (0)
- Манифест-кубослон | 27.04 12:32 (0)
- Конференция и презентация | 09.04 01:13 (0)
- Открывая «Кулибинарию» | 13.03 05:05 (0)
- Загребай! | 20.02 11:39 (0)
- Трёх лимериков манифест | 01.01 22:55 (0)
- Про пищи вулкан | 01.01 15:38 (0)
- Гравировка с разбегу | 10.11 21:52 (0)
- В небе шаровые краны! | 28.10 03:07 (0)
Золото Квикнема, часть 4 | 13.04.2017 г. в 18:13
Из рассказа Пьера Мак-Орлана «Ночная Маргарита» (перевод с французского А. Вейнрауб)
Жорж Фауст попробовал прикрыть свою голую ногу клочком посеревшей простыни, потом устроил себе темноту перед глазами. фильм его жизни завертелся перед ним — трюх-трюх-трюх, неритмично и неумело. Он увидел себя студентом в комнате для занятий, школьником. Он снова пережил свои первые дебюты, когда, будучи ещё молодым профессором грамматики, он обучал искусству писать третью команду rugby в одном из провинциальных лицеев. Неясный и грузный силуэт служанки, голова которой покрывалась тысячью грубых, наложенных одна на другую подробностей, напомнил ему давнишнюю нежность его жизни, жизни старого учёного «дождевого зонта». Книги, нагромождённые грудами, отмечали тогда, как трофеи, его путь. Жизнь его пахла запятнанным пергаментом, истёртой кожей переплётов, перечным запахом монументального словаря Треву, между страницами которого он видел вновь перед собой засушенные цветы, вызывавшие в памяти какую-нибудь милую мечту среди промозглости колледжа. Поверх всей этой библиотеки, в беспорядке разбросанной по полю его воображения, Жорж Фауст увидел классический силуэт своего легендарного предка. Знаменитый старец, поместившись перед каким-нибудь «Молотом ведьм», указывал пальцем в зенит. Чёрная собака вычёсывала блох в наиболее освещённом углу рабочего кабинета. Магический круг вертелся, как колесо фортуны на крышке коробки с сюрпризами. Вся эта сокровенная деятельность сводилась к созданию портрета нагой женщины, в здоровом вкусе, нагой женщины молочной белизны с рыжими волосами, — короче говоря, превосходного экземпляра плотской любви учёного холостяка. Это видение оставило улыбку на тонких губах Жоржа Фауста. Он хорошо знал эту воображаемую авантюру, поскольку не раз мысленно пускался в неё даже в те далёкие времена, когда был ещё молод, хотя уже сгорблен. Он рассматривал это непристойное явление как фамильную традицию. Эта девушка с рыжими волосами уже ввергла в вечные муки его предка. Литература и искусство популяризовали эту довольно тёмную историю, и скандал этот был вынесен на все сцены, начиная с тех, где движутся марионетки, и кончая подмостками, получающими субсидии от могущественных государств. «Марлоу [Кристофер Марло. — К.], тот сумел наказать старца», — часто думал Жорж Фауст. И воспоминание о ночи расплаты заставляло его старческое тело дрожать мелкой дрожью, хотя он был и ни при чём во всём этом деле. Один из Фаустов, прямой потомок того, что соблазнил Маргариту, явился во Францию в качестве корректора типографии в конце XVII века. Здесь он женился на одной парижской девушке, отец которой тайно печатал философские сочинения некоторых избежавших сожжения вольнодумцев. У него был сын, который, прослужив солдатом в Швейцарии и руффианом [сутенёром. — К.] у девушки из Куртейля [Куртиля, весёлой местности в предместье Бельвиль, ныне одном из кварталов Парижа. — К.], возвысился до чина лейтенанта в одной из полубригад итальянской армии. Этот Фауст женился за неделю до брюмерского переворота и через несколько дней умер от таинственного удара, несмотря на то, что его лечили и ртутью, и гваяковым деревом. Его жена была беременна сыном, ставшим впоследствии учителем и служителем при храме. Последний тоже оставил после себя сына — угрюмого, рахитичного человека, сделавшегося коммерсантом. Он и был отцом старика, лежавшего на убогой кровати и перебиравшего в своей слабой голове все старые костяные безделушки своего необъяснимого существования, где мысли, как нежное мясо, скрывались под толстым слоем жира посредственности. Во власти старческой бессонницы, Жорж Фауст через полураскрытое окно почувствовал присутствие весны, сидящей на подоконнике. Издалека, с низов Монмартра, до его ушей долетал неясный шум праздника, его ноздри почувствовали запах сирени, вафель и пота весёлых девиц, трущихся в толпе и, подобно спичкам, готовых вспыхнуть каждую минуту. На окраинах Парижа свистели поезда; луна повисла в небе, как сигнал, указующий тем, кто не спит, что Млечный путь свободен. Жорж Фауст прислушивался к этой далёкой жизни, насторожив ухо, наморщив лоб, широко раскрыв глаза. И на стене своей комнаты, где танцевала тень от шнурка занавески, старик увидел образ этой давней женщины, этот «фамильный» образ, столь волновавший на склоне дней всех стариков его древней фамилии. Он неловко одел её по своему вкусу: спутанные юбки, которых уже больше не носили, шёлковая розовая комбинация, чёрные чулки, алые подвязки, фетровая шляпа с широкими полями. Он не мог точно воспроизвести на своей потерявшей чувствительность сетчатке модель более или менее подходящего корсажа. Одетый таким образом силуэт рыжей женщины представлялся Жоржу Фаусту совершенным образцом моды, с трудом выработанной старым педантом, пропахнувшим я[г]ур[т]ом [yaourt (йогурт). — К.]. Он усмехнулся — один, в своей плохо проветренной комнате. И смех его походил на удар друг о друга двух белых фарфоровых чашечек. Между тем присутствие весны за окном располагало старика к меланхолии. «Ты пахнешь крысой», — говорила с гримасой отвращения аллегорическая личность, сидящая у окна на шесте. Жорж Фауст перевёл это наблюдение на повседневный язык юной Люсьенны. Ребёнок часто распевал одну популярную, довольно таинственную, песенку, припев которой кончался таким чётким образом: Et le vioc' derrièr' la maison 1). Фауст часто спрашивал себя, что бы могло означать присутствие старика за домом. Люсьенна знала из песенки только эту последнюю строку — это для неё было и лучше. Но Фауст, часто спрашивавший её о значении этих слов, не мог удержаться, чтобы постоянно не пережёвывать всяческие несложные комбинации, роднившие его с этим таинственным и, конечно, потерявшим бодрость старичком.Достаточно было запаха майской ночи, чтобы повергнуть его в грустное настроение. Однако эта ночь как-то особенно надрывала ему душу. Его преклонный возраст мешал ему спать. Таким образом он жил ночной жизнью, часто приводившей его в ужас, когда он чувствовал в своём коридоре руку убийцы, нащупывающую с осторожностью сырую, серую стену — голую и гладкую. Иногда в такие ночи он с ясностью представлял себе своё положение и принимался оплакивать свою потерянную молодость, прожитую кое-как, исковерканную демоном его семьи, который кончал всегда тем, что являлся восьмидесятилетним потомкам в ослепительном блеске магического сочетанья. «Разве человек может быть так глуп, — подумал Фауст, натягивая простыню на свой нос старого зубоскала, — разве человек может быть так глуп, чтобы отказаться обменять свою душу на новую молодость?..» Он протянул руку, взял из жестяной коробки лакричную лепёшку и иссосал её с тысячью предосторожностей между беззубыми дёснами — дёснами старой лошади, сделанными из розовой конской кожи. Какой-то жилец грубо захлопнул входную калитку. Он крикнул своё имя, которое старик слушал ещё долго, ибо голос этот трепетал в воздухе, как гонг, а старому Фаусту больше не хотелось думать. Оторванный от своих мыслей, он, широко раскрыв глаза, созерцал свою убогую мебель, свои стены, свои заледеневшие ноги: это заменяло ему сон. -------------------- 1) ...А за домом старичок... |
Квик
Если вы обнаружили ошибку в тексте, то выделите часть текста и нажмите Ctrl+Enter
Последнее из рубрики Город, который в Net
- Золото Квикнема, часть 10 | 21.03 16:21
- Золото Квикнема, часть 9 | 20.03 22:01
- Золото Квикнема, часть 8 | 15.03 18:57
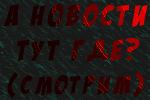

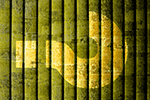
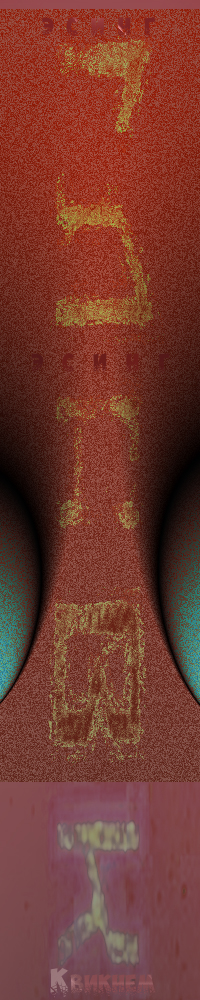
Комментарии читателей
Добавить комментарий