Новостная лента
- Инициатива | 30.06 03:21 (0)
- ФФ-сюр | 23.05 05:36 (0)
- Манифест-кубослон | 27.04 12:32 (0)
- Конференция и презентация | 09.04 01:13 (0)
- Открывая «Кулибинарию» | 13.03 05:05 (0)
- Загребай! | 20.02 11:39 (0)
- Трёх лимериков манифест | 01.01 22:55 (0)
- Про пищи вулкан | 01.01 15:38 (0)
- Гравировка с разбегу | 10.11 21:52 (0)
- В небе шаровые краны! | 28.10 03:07 (0)
Золото Квикнема, часть 9 | 20.03.2018 г. в 22:01
Из рассказа Пьера Мак-Орлана «Ночная Маргарита» (перевод с французского А. Вейнрауб)
|
ГЛАВА ШЕСТАЯ Ночная Маргарита, в белом платье, опираясь рыжей головой об улицу [давайте уж не поймём буквально! — К.], пересечённую красными и золотыми змеями рекламных огней, была похожа на картину, избегнувшую сезанновского влияния [сдержанности, лапидарности. — К.]. Когда она была молчалива и естественно смешивалась со своим окружением, она являла собой аристократический силуэт красивых и крупных ночных девушек. Она принадлежала к избранному обществу панели — которое тоже по-своему «избранное общество». Она презирала бедных женщин, рассеянных между деревьями бульвара, или, в иные часы, жалела их. Когда она выходила на рассвете из Saharet или Royal, закутанная в свой sortie de bal, с руками, полными сувениров весёлой ночи, она пугливо закрывала глаза перед тайнами дня, совлекавшими с неё уборы. Солнечные лучи злобно кусали её кожу. И с ними таяли, как снежная статуя, её ночные силы.Но по ночам она забирала в свои руки все тайные намеренья властелинов дня. Все её движения, казалось, регулировались общественным агентом, прикрепившим лампы к фасаду набитых смятенными идеями домов. [Здесь и выше явная дань сюрреализму, набиравшему во Франции ход. — К.] Она бессознательно жила довольно утончённой мозговой пищей, смесью артистических фиоритур и реминисценций биржи, интеллектуальными отбросами тех и других. При падении дня и приближении ночи Маргарита представляла собой социальную ценность ещё плохо определённую, но, во всяком случае, неразрушимую [устойчивую. — К.]. Фауст держал в своих слабых руках это существование, красное и серое, вписанное между двумя каноническими положениями девушки: в лёгком, богатом туалете ночью, ночных туфлях, небрежном пеньюаре — днём. Ночная Маргарита принадлежала ему и в ночных туфлях, и вечером, когда блистала вызывающим туалетом. Царственная и в то же время полная такта, она принадлежала всем статистам, движущимся в свете, насыщенном американскими мелодиями. Фауст [в это время] сохранял своё дневное «я», низкоавторитетное, ибо [он] не обладал счастьем предка. Когда Маргарита отдавалась неге своих ночных туфель, он начинал командовать ею, покрикивать голосом адъютанта, наторевшего в литературной критике любви и нравов. Он одерживал победу на всех фронтах, и Маргарита смотрела на него с обожанием, волоча свои туфли через весь беспорядок комнаты, наводнённой всяческими бумажными сувенирами с последнего дансинга, где она оставляла свои силы вместе с пустыми бутылками от шампанского, с открытыми навстречу занимающемуся дню окнами, с опрокинутыми стульями и с ужасным запахом рассудочного сладострастия, застоявшимся под потолком вместе с запахом интернациональных табаков. Фауст, с тех пор как Маргарита взяла на себя все заботы о нём, перестал думать о своих делах с Леоном. Он только побаивался закона, стараясь целиком использовать, как можно лучше, свою новую жизнь, избегая в ней всяких обстоятельств, могущих повлечь за собой какое-нибудь несчастье. Он не переставая думал о своём предке, сожалел о том, что не может иметь новую душу, не заложенную, дабы завоевать состояние, прибегая к тем же магическим приёмам. Его ежедневно изводила мысль о продаже своей старости за такую цену; он сожалел, что не может быть вновь свободен, чтобы заключить новую сделку, столь же достойную сожаления. Несмотря на то что он презирал Леона, не проходило дня, чтобы Фауст не искал его общества. Он беседовал с ним на тему о преимуществах моральных страданий над физическими, излагал ему идеи, которые стремились обновить адские муки в желательном для него смысле. — Вы трусите, — говорил Леон-Мефистофель. Фауст подскакивал на месте: — Я... я... я хотел только сказать, что ваше представление об аде — смешно. Например, христианские мученики никогда не были побеждаемы физическими муками. Такая концепция вечного наказания — абсолютно ребяческая. К страданиям тела привыкают сравнительно легко. Нужно суметь схватить ритм этих страданий, не напрягаться и рассуждать... Надо... — Я придаю большее значение физическим страданиям, — упрямо повторял Леон-Мефистофель. И чем больше он упорствовал, тем слаще становился его голос, тем больше бледнела от бессильной злобы его жертва. Обмен этими нелепыми фразами составлял единственное умственное усилие Жоржа Фауста. Его самые коварные инсинуации не обладали достаточной силой. Атмосфера, в которой он эволюционировал, иногда подбодряла его, давая ему надежду, что его случай смешивается с какой-то вековой мистификацией, главная цель которой — питать обновлёнными видениями, по прихоти модных знаний, воображение одиноких лириков. Его собственная молодость и молодость Ночной Маргариты стирали эти грустные образы в избытках любви и реализации слов, необходимых в повседневной жизни. * * * Оперевшись локтями о колени, поддерживая голову руками, сложенными чашей, Маргарита, задумчивая, рассматривала лицо своего возлюбленного: юное лицо, с оттенком какого-то легкомыслия, тонкое, но в котором сквозила старость. Инстинктивно она чувствовала, что ей угрожает какая-то невыразимая опасность, ослепительней той, что рождается из испытанной ревности.— Тебе нужны деньги? Фауст поднял плечи, подвинулся, нервно ударил по подушке и вытянулся на спине, уставившись в потолок, с потухшей папиросой, прилипшей к нижней губе. — Ты опускаешься, — сказала Маргарита. Именно этого-то и не следовало говорить. Фауст весь скорчился, как картонный плясун, которого дёрнули за верёвочку, вскочил на упругой кровати и выпрямился, покрасневший и враждебный, перед Маргаритой, видавшей и не такие виды. — Я опускаюсь!.. Я опускаюсь!.. Его душило негодование, и оскорбительные ругательства поднимались за его зубами, словно дикие звери перед кормёжкой. Он снова упал в изнеможении, обхватил голову руками и простонал: — Какая молодость! Боже мой. Какая молодость! — Если ты хочешь расстаться... — сказала Маргарита слабым, незнакомым голоском. И тотчас стала нежной: — И глупенький же ты, — говорила она. — Скажи мне что-нибудь... Ты ведь можешь довериться мне, я твоя жена... Она посмотрела ему прямо в лицо: — Ты нечисто сделал и боишься последствий? А? Я догадалась... Догадалась, а? Она допрашивала его с каким-то энтузиазмом и старалась расширить зрачки, ибо, несмотря ни на что, не могла отделаться даже в минуты искренности от низменного пристрастия ко всяким общим местам экрана и театра. Фауст, с видом самого глубокого отчаяния, использовал представлявшийся ему случай. Он встал, бросил папироску, порылся в кармане пиджака, достал бумажник и бросил на стол сложенную вчетверо бумажку. Молодая женщина ловко её подхватила. Она развернула и прочла, хмуря лоб, этот необычайный документ ничуть не изумившись, по крайней мере внешне. — Да, ты не совсем хорошо устроился, — сказала она просто. — Как... но речь идёт о моей душе! Он прикусил губы, но, понятно, было уже слишком поздно. — Правда... — сказала Маргарита. — Речь идёт о твоей душе. Она не совсем понимала. Но воспоминания из катехизиса рассеяли все слова облегченья, которые она предвидела. — Ты продал душу, — повторила Маргарита. — Я продал душу, чтобы обладать тобой, — сказал Фауст, вникая в её позу. В этот миг он говорил, действительно, чтобы спасти свою душу. С того дня, когда он вновь стал молод, он думал лишь о спасении души, бессмертие которой ему было отвратительно. Маргарита серьёзно изучала документ, ища какой-нибудь уязвимой точки в этой с виду несложной и скромной катастрофе. — Ты подписался собственной кровью, — сказала она тоном человека, который подчёркивает чей-нибудь ложный шаг. Фауст пожал плечами. — Придётся найти какого-нибудь старика — подписать эту бумагу. — А что же Леон даст ему в обмен? — Молодость со всеми её радостями. [Обман, ибо молодость по данному контракту уже получена Фаустом. — К.] — Ну тогда это никогда не кончится, — сказала Ночная Маргарита. — Понимаешь ли, дорогой мой... если какой-нибудь старик подпишет эту бумагу, твоя душа освободится, а его будет схвачена... Хорошо, тогда Леон получит душу старика в час его смерти... но если перед смертью старик сумеет всучить эту бумажку какому-нибудь другому старцу, Леон должен будет ещё дожидаться... Поскольку всегда будут находиться старики, желающие омолодиться, Леон не сможет получить вознаграждение за свою комбинацию?.. — Об этом я не подумал, — сказал Фауст, заинтересовавшись, — но ты права, знаменитый принцип зла носит в себе элементы своего собственного разрушения. Это совершенно согласуется с общими идеями, которые я собирал по этому вопросу, когда мне было восемьдесят два года. Ночная Маргарита качала головой, как уравновешенный человек перед кучей добрых советов, следовать которым не так-то легко. Фауст ходил взад и вперёд по комнате, почёсывая затылок или постукивая папироской по верхней части руки [возможно, по тыльной стороне кисти... — К.]. — Я стараюсь вспомнить имя, имя одного типа, — сказала Маргарита, копавшаяся в своей памяти, как в чемодане. — Я знаю много стариков, одного сенатора, он — адвокат... этот не согласится... одного старикана, управляющего, кажется, банком... этот тоже никогда не согласится. Ах! Если бы полковник не умер в прошлом году, я бы могла его заставить подписать всё что захотела бы... но он умер... — Именно, — ответил Фауст. — Знаешь, мой дорогой, ты должен оставить мне эту бумагу. Может быть, мне удастся использовать какой-нибудь случай. В Saharet встречаются такие чудны́е типы... — Это несносно, — сказал Фауст. — Я боюсь, что у тебя затаскают мой документ. Это очень важно: если документ исчезнет, нечего будет подписывать, и я останусь на веки вечные с моим осужденьем. — Ты считаешь меня совсем идиоткой? — Подумай немного, Маргарита, и представь себе феноменов, которым ты предложишь этот документ. Ведь они не подпишут его, не прочитав! — Я скажу, что это подписка на благотворительный бал. — Делай что хочешь, — вздохнул Фауст. — Быть может, ты и права. * * * Войдя в красный с белым зал Saharet, Ночная Маргарита приветствовала рукой своих молоденьких знакомок, сидящих за столиком с напитками, предоставленными им заведением. Они сидели чинно в ряд на красной бархатной банкетке, прижавшись друг к другу, совсем как красивые безголосые птички. Джаз-банд, думая о своих маленьких делишках, подхватывал мелодичное течение серафического саксофона. Банджо выбивало интервалы в ритме турбинных мельниц. Ночная Маргарита положила шляпу-клёш [клош. — К.] рядом с собой, взбила обеими руками волосы, бросила на стол сумочку и принялась оценивать возможности, блуждавшие перед её глазами вместе с фантомами в смокингах.Старик, корректный и чёрный, как кипарис, улыбнулся ей. Она подсела к нему и подкрасила губы, пока он заказывал шампанское. «На вид он не глуп», — с горечью подумала Маргарита. Диалог, целиком извлечённый из книжки французско-английских разговоров — незнакомец оказался британцем, — завязался между ними, разукрашенный улыбками. — О! Угодно ли вам провести ночь в моём обществе? — Вы настоящий шалун... — О, шампанское сухо, не найдётся ли получше?.. etc. «Я ни за что не решусь показать ему мою бумагу», — думала Маргарита. Непреодолимая робость запутывала её в свои прочные, безнадёжные сети. Маргарита уж больше не смотрела на стариков прежними глазами, понимала их не так, как раньше, до удивительного конца этого дня, когда в её комнате возлюбленный посвятил её в детали этой невероятной, ошеломляющей сделки, которая, однако, не показалась ей окончательно невероятной и ошеломляющей. Она увидела на другом конце залы, в то время как её клиент, казалось, приходил всё в большее внутреннее возбуждение, другого старика, который по первому взгляду показался ей человеком необычайного ума и ясности... В эту ночь перебывало около тридцати одетых в смокинги стариков, прямых и высоких, как кипарисы. Салон Saharet со своими скульптурами и весёлыми кипарисами напоминал campo santo [кладбище. — К.] в каком-нибудь городе Северной Италии. Эти тридцать стариков, все тридцать, выказывали внешние признаки утончённости, учтивой хитрости и самого традиционного ума дельцов. В своём воображении Ночная Маргарита перебегала от одного к другому, как обезумевший шарик в азартной игре, в которой судьба — против неё; она держала в руке, погружённой в сумочку, маленькую бумажку, причинявшую ей боль, как ожог. |
Квик
Если вы обнаружили ошибку в тексте, то выделите часть текста и нажмите Ctrl+Enter
Последнее из рубрики Город, который в Net
- Золото Квикнема, часть 10 | 21.03 16:21
- Золото Квикнема, часть 8 | 15.03 18:57
- Золото Квикнема, часть 7 | 21.02 04:20
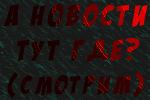

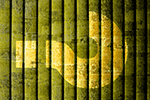
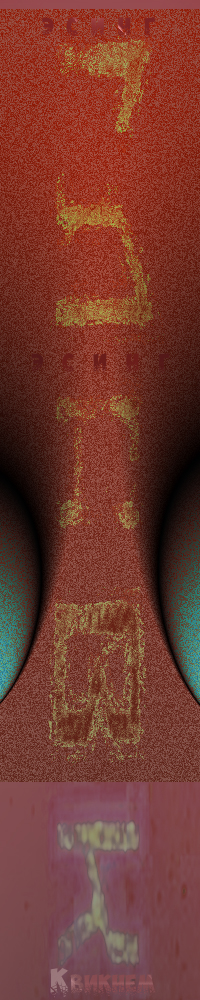
Комментарии читателей
Добавить комментарий