Новостная лента
- Инициатива | 30.06 03:21 (0)
- ФФ-сюр | 23.05 05:36 (0)
- Манифест-кубослон | 27.04 12:32 (0)
- Конференция и презентация | 09.04 01:13 (0)
- Открывая «Кулибинарию» | 13.03 05:05 (0)
- Загребай! | 20.02 11:39 (0)
- Трёх лимериков манифест | 01.01 22:55 (0)
- Про пищи вулкан | 01.01 15:38 (0)
- Гравировка с разбегу | 10.11 21:52 (0)
- В небе шаровые краны! | 28.10 03:07 (0)
Золото Квикнема, часть 8 | 15.03.2018 г. в 18:57
Из рассказа Пьера Мак-Орлана «Ночная Маргарита» (перевод с французского А. Вейнрауб)
|
ГЛАВА ПЯТАЯ Когда Фауст вернулся в свой отель, назначив Маргарите свидание ночью в Saharet, он встретил в швейцарской Леона.— А вот и вы! — сказал любезно хромой, — я целый час стучал к вам. — Вполне понятно, — ответил Фауст, искажая рот гримасой, полной горечи. — Вы мне нужны сегодня вечером. У меня есть товар для сбыта в один частный дом в Отейле. Вы нашли какое-нибудь занятие в университете? — Шутник, — сказал Фауст. — Ну а как связь с Маргаритой? — Вы знаете об этом?.. Ах, да, я забыл... Благодарю вас, всё идёт очень хорошо, очень даже хорошо. — Не дурачьтесь. У вас хорошее место. Эта женщина очень мила и, в своём роде, даже серьёзна. — Итак, — ответил Фауст уклончиво, — я увижу вас через полчаса в табачной конторе за аперитивом. Леон удалился, прихрамывая. Фауст поднялся к себе, он поспешил проделать свой туалет со всеми надлежащими аксессуарами — у себя, ибо ещё не завёл всего этого у Маргариты. Тщательно проводя пробор, он думал о Маргарите, о Леоне, которому задолжал свою душу, об этой опасной торговле химическими продуктами. Он больше не думал о своей былой старости, рассматривая своё теперешнее состояние как совершенно нормальное. Подписанная им бумага казалась ему документом какого-нибудь шантажиста. Но полиция не могла вмешиваться в это дело, ибо документ был подписан кровью [мысль ясна, но в контексте звучит забавно. — К.] и, что самое главное, не только кровью, но ещё неким таинственным элементом, преступным и невесомым, которому кровь служила лишь материальным выражением. Он не мог ни убить Леона-Мефистофеля, ни разорвать бумагу. Никакая ни человеческая, ни сверхъестественная сила не могли изменить того факта, что сделка была окончательно заключена. — Ах, если бы мне удалось найти какого-нибудь дурака... — стонал он. Весь день Фауст был озабочен, несмотря на восхитительное воспоминание о своей возлюбленной, о своём друге... — Я твоя жена, — сказала Ночная Маргарита. — Ты мой друг, — ответил Фауст. — Это меньше отзывается «субботним вечером». В семь часов вечера Леон-Мефистофель вручил Фаусту толстую книгу в кожаном переплёте, на корешке которого была этикетка с такой надписью:
Фауст без труда отыскал нужный ему номер. Он позвонил у калитки маленького трёхэтажного особнячка [без «чка» он имел бы этажей пять, видимо. — К.], закрытые ставни которого не пропускали никакого света. Лёгкие шаги зашевелили садовый гравий, и калитка приоткрылась. Горничная в чёрном платье, в маленьком переднике, приколотом на груди, посмотрела на него в упор. Она была высокого роста, блондинка, гибкая, с некрасивым, но очень соблазнительным лицом; манеры её походили на манеры какой-нибудь русской княгини после случившегося несчастья. — От господина Леона, — сказал Фауст, приподнимая шляпу. — А! Хорошо, merci... до свиданья, мёсье. — До свиданья, мадемуазель. Теперь, освободившись от компрометирующей книги, Фауст почувствовал себя столь чистым [видимо, беззаботным, сбросившим гору с плеч. — К.], что закурил папиросу, не отдавая себе отчёта в своём жесте [вот ведь до чего расслабился! — К.]. Он спустился, улица за улицей, к Сене. На борту одной из шлюпок пели на северном наречьи матросы. На мостике Passy поезд метрополитена пересекал ночь, как сверкающая подробность в романе предвосхищений. Набережные казались пустынными. Но в тени мостов блуждали какие-то призраки. «Не стоит рисковать случайной смертью [подвергать себя риску случайной смерти. — К.]», — подумал Фауст. Он ускорил шаг, добрался до станции метро, светившейся, как большой фонарь, наверху грандиозной лестницы. Фауст возвращался на Монмартр, сидя удобно на кожаном сиденьи; он с отвращением [пусть и сидя удобно... — К.] оценивал по [настоящему] достоинству ужасающую пустоту этой посредственной молодости, доставшейся столь дорогой ценой. Кровь разгорячила ему щёки. Миловидная женщина украдкой посматривала на него. «Я молод, — думал Жорж Фауст, — я молод, но у меня остались на моих белых стенах паутины в наследство от старого Фауста. Контракт, который я подписал, — неполон. Я должен был бы предусмотреть вознаграждение, солидную ренту до конца дней». Эта мысль его обеспокоила. «Мой предок был богат, — подумал он, смотря на станцию Villiers. — Никогда он не испытывал денежных затруднений. Посмотрел бы я, какова была бы его вторая молодость при моей скудости». — «Точь-в-точь как моя», — ответил он сам себе, улыбаясь. Этот ответ вернул ему спокойное настроение. Он нащупал в кармане бумажник и вспомнил, что рядом с контрактом, о котором он не хотел думать, Маргарита незаметно всунула бумажку, очевидно в сто франков. Желая убедиться, он вытащил бумажку. Это был лишь пятидесятифранковый билет. «Ах, дрянь!» — сказал он [Фауст, не билет. — К.], вставая. Он вышел на площади Pigalle и, подхваченный главным двигателем своей социальной системы, почувствовал, что он будет вертеться кругом, как и все вечера, в этой своей жизни, начертанной наподобие карусели с органом, с мишурной позолотой, девицами, сидящими верхом на деревянных резных свиньях, и с полицейскими, спускающимися с луны. Он встретил Леона на террасе одного кафе. — Сделано, — сказал он. — Хорошо, — ответил хромой, роясь в кармане. Фауст протянул руку и получил пятидесятифранковый билет. Засунув руки глубоко в карманы брюк, распустив живот, выставив напоказ свои шёлковые носки, он пил аперитив, между тем как Леон, читавший газету, вытирал кругленькую слезинку, вызванную компромиссом между носом [хищным нюхом, видимо. — К.] и сердцем [чувствительным, надо полагать. — К.]. «Я же подписал этот акт, — думал Фауст, чтобы подбодрить себя. — Почему же, исходя из этого несомненного факта, я не мог бы найти какого-нибудь субъекта... в моём роде, который выберет... что я говорю?!.. который будет ослеплён возможностью использовать столь романтический образ действия?» Он подумал: «А если он меня арестует?» Фауст вынул документ из бумажника, развернул его и прочёл со всеми подробностями. Леон, окончивший чтение газеты, наблюдал за ним уже несколько минут. — Ну что, не подходит? — Собственно говоря, — пробормотал Фауст, вздрогнув, — я не совсем понимаю, какой интерес привлечёт того, кто поставит свою подпись после моей. Если он стар — разве он помолодеет? А если он молод? — Нужно рассчитывать на дух альтруизма у мужчин и женщин, — сказал Леон-Мефистофель. — Чистота сердца — такое же украшение для духа жертвенности, как роза для щёк молоденькой девушки. [А почему не учитывается точная дата передачи души Князю Тьмы, указанная в контракте? «Альтруист» даже старческого в 1924-м возраста, получается, должен будет прожить до 25 мая 2000 года. — К.] — Я подписал слишком поспешно. — Вы сожалеете о вашей сделке? Я вот что могу вам предложить: разорвите оба документа в обмен на вашу молодость. Завтра, если вы этого пожелаете, вы можете проснуться снова в образе того старика, каким вы были ещё не так давно. И прибавил: — И маленькая Люсьенна будет опять приносить вам молоко каждое утро, до тех пор, пока сначала одна бутылка, затем две, затем три [не] останутся нетронутыми возле двери. К вам проникнут, взломав дверь, и найдут вас на вашей гнусной постели застывшим в гримасе последнего приступа кашля. И это вы называете идеалом? — Позвольте, я не называю это идеалом... Я только хотел сказать, что возможности избегнуть вашего адского могущества кажутся мне весьма сомнительными. — Вы суеверны, — сказал Леон. — И, несмотря на ваше философское образование, вы боитесь смерти из-за разных гипотез о том, что будет там, за гробом. — Я ни во что не верю, — заявил Фауст, — но я вполне доверяю вашей сделке, как доверяю вот этой монете с дыркой, — он показал её, — цифре 7, цифре 10 и цифре 2, удачное действие которых моё личное дело, зависящее лишь от меня и благосклонности этих цифр. Я боюсь смерти со времени вашего необъяснимого вмешательства в мою жизнь, боюсь с точки зрения научной. Я стал сомневаться теперь в уничтожении навсегда всего того, что составляет мою личность. Мне кажется, что следовать за вашей погребальной процессией, даже под жгучим солнцем, до какого-нибудь самого безнадёжного пункта в раскалённом пригороде, было бы для меня бесконечной приятностью — литром холодного молока, влитым в рот на следующий день после попойки. — Я вас отлично понимаю, — сказал Леон, ничуть не обидевшись. — Я вас понимаю, и, если бы я был в вашей шкуре, я рассуждал бы точно так же. В конце концов вы боитесь более всего страданий физических, и вы правы. На вашем месте я бы выпутался, пока ещё молод, подыскав заместителя. — Мой предок не нашёл, — простонал Фауст. — Это не входило в его контракт. И, кроме того, ваш предок был лишь относительно прекрасной душой — то, что мы называем «прекрасной душой» для удовольствия большинства. Но, между нами говоря, он даже не предвидел возможности освободиться от гнетущего его кредитора. Он бранил меня, милостивый государь, ругался со мной на том похабнейшем языке, который так нравился немецким клеркам его времени и который, как вы знаете, был высмеян рыцарем Ульрихом фон Гуттеном. Мы слонялись по кабачкам, излюбленным ландскнехтами и тяжеловесными девками с кинжалом за подвязкой. Ах! Времена переменились! Теперь Фауст мог бы попытать счастья. Вот почему я и оставил вам некоторую возможность спасения. * * * Леон-Мефистофель, пообедав в обществе Фауста, покинул молодого человека, предоставив его любовным делам. Маргарита встретилась со своим другом на площади Tertre, когда тот пил кофе на террасе маленького ресторанчика, как раз против того дома, где Фауст жил раньше. Маленькая, провинциальная площадь была полна столиков и гостей. Огнеглотатели полыхали среди снующих с различными закусками гарсонов; маленькие насмешливые девочки, держась за руки, обменивались фривольными словечками, избегнув родительского контроля. Какой-то итальянец пел под аккомпанемент банджо, и его отчаянный голос неискусно ударялся обо все препятствия. Ночная Маргарита, чинно сидя перед своим café glacé, смотрела на возлюбленного, освещавшего в её глазах всё место чувственным светом. Она ещё хранила в себе медленно замиравшую дрожь предыдущей ночи. Ныне присутствие любимого человека контролировало восторги её хитрого и неистового тела.Она чувствовала себя восхитительно умилённой игрою, предшествовавшей минуте, когда она поняла, что отныне связана с этой судьбой, которую она окружала невысокими стенами, построенными её робким воображением. Её возлюбленный как бы танцевал на кончике резиновой нити, которая внезапно удаляла его от неё, лишь только она пыталась его схватить. Она знала, что он негодяй — ибо иначе она не могла объяснить себе его связи с Леоном, — и знала, что он различного с ней социального положения, другого класса, который она считала, по традиции, высшим, несмотря на то что презирала его редких представителей, известных ей. Эта милая, взбалмошная женщина, развратная по натуре, без всякой литературщины, судила о жизни только с точки зрения своей профессии. Всё, что к этой профессии относилось, казалось ей логичным и нравственным. Она не могла представить себе правосудие таким, как [или всё же «каким его представляли себе»? — К.] её случайные друзья. Эти люди кормили полицейских-сутенёров, которые их защищали, и для них это было правосудием. Она же, Ночная Маргарита, имела своего собственного сутенёра [столь незаметного, что о нём ничего нам не сообщается. — К.], который мог бы её защитить, — это было её правосудие. Оба правосудия сталкивались друг с другом, боролись день и ночь, и в воображении Маргариты это была жизнь — так, по крайней мере, думала она, когда взбивала [вспенивала, наливая в бокал? — К.] шампанское одна за столиком в Saharet, в тот час, когда клиенты ещё заставляют себя ждать. Всё казалось ей окутанным какой-то весёлой надёжностью, когда она бывала рядом со своим возлюбленным. Они сидели очень близко друг от друга, бёдра их соприкасались; она принимала этот контакт как награду. Она любила Фауста, как собачонка, которая ложится к хозяину на колени, и ей не хотелось покидать своего места, ибо она чувствовала, что каждый атом её тела распускается в этом соприкосновеньи, осуществление которого в такой естественной и, если хотите, целомудренной форме она не могла себе и вообразить. — Сегодня вечером я свободна, — сказала Маргарита, и стыдливость сделала голос её хриплым и неприятным. Фауст встал, покусал губы, посмотрел на часы. Затем он подумал о документе в своём бумажнике и снова опустился на стул с бессильным стоном: — Ах! Моя дорогая, как я люблю тебя! |
Квик
Если вы обнаружили ошибку в тексте, то выделите часть текста и нажмите Ctrl+Enter
Последнее из рубрики Город, который в Net
- Золото Квикнема, часть 10 | 21.03 16:21
- Золото Квикнема, часть 9 | 20.03 22:01
- Золото Квикнема, часть 7 | 21.02 04:20
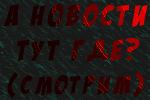

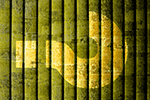
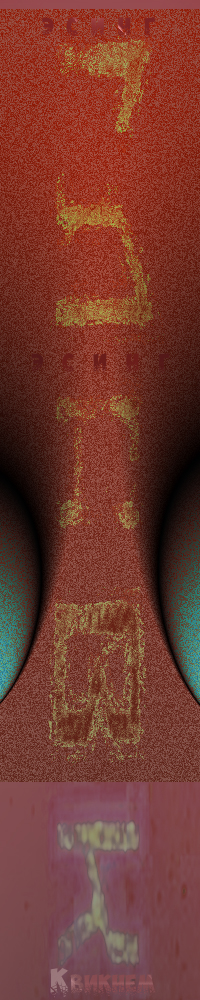
Комментарии читателей
Добавить комментарий